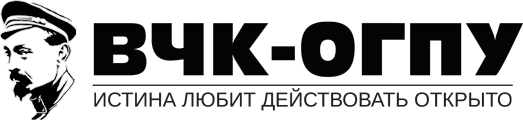Удар приходится в челюсть, немного сбоку, и очередной зуб хрустит, заполняя рот соленой лужей. Я сплевываю, но липкая красная слюна цепляется за губы и остается свисать с подбородка.
- Под…нк…- половина букв всмятку, но суть, я думаю, понятна.
Он смотрит, морщась, и только цокает недовольно языком.
***
Мне нравятся такие, как раз в моем вкусе. Не могу пустых, не встает, хоть берут до горла. Нет, мне подавай такого – пусть помятого, пусть обтроганного, пусть расписного или с зелеными волосами, но чтобы в глазах плескалась мысль. Даже если сам о ней не знает – я увижу. Я почувствую. Услышу, унюхаю, распознаю - и приторможу напротив: «Замерз?»
Нахожу его около вокзала, у обледенелого фонаря. Курит и ждет. Да-а-а, такой, как нужно. Светлый наглый ежик, красные уши, перебитый нос и огромный пуховик, из которого он торчит, словно застрял в сугробе. А в колючих глазах… о, в этих глазах такое, что сложно разглядеть. Но я вижу. Я вижу тебя, мой прекрасный оборвыш с поэзией во взгляде, мой личный юный Артюр Рембо. Я уже подъезжаю.
- Замерз?
Он вскидывается, будто только и ждал меня. Делает два шага по хлюпкому ноябрю. Скрипит сиденьем, бухает дверью.
- Я быстро согреваюсь.
Торопливо дышит на красные пальцы, трет, тянется ближе. Я ловлю все еще ледяные ладони.
- Ко мне, - киваю в темноту. – Тут недалеко.
Он вглядывается, будто в самом деле ожидает увидеть там что-то. Облизывает обветренные губы, косится на мои руки – черные кожаные перчатки.
- Двадцон.
- Хорошо, - я поворачиваю ключ. Я обычно даю тридцать.
***
- Ты их вообще снимаешь?
Он лежит на моих простынях, влажный после душа и по-зимнему бледный. Растянулся, как молодой побитый жизнью кошак, весь в шрамах. Мой любимый – вот этот, ожог на бедре слева. Будто модная протертость на джинсах, будто сквозь грубость видна гладкая розовая настоящесть. Почти такой же, как шрам у… нет, для этого еще рано, туда мы пока не ходим.
- Как тебя зовут?
- Гера.
Гера, надо же. Не Штырь, не Шприц, а Гера. Это приятно.
- Так что, снимешь?
Ну раз Гера, значит, можно и снять. Стягиваю черную, привычную, почти вросшую кожу с пальцев, аккуратно складываю в карман пальто.
- Памятный подарок, привык. Многое в них даже удобнее. Стрелять, например.
Он вскидывает взгляд. Смотрит на меня, снова на перчатки и наконец плюсует два и еще два.
- Ты… Снайпер?
Я стягиваю пальто, роняю на кресло.
- Тебе не нужно бояться.
Он фыркает, вроде «и не думал», но мышцы спины вздыбливаются. Взгляд ощупывает в поисках ствола - весьма умело. Я снимаю часы, стаскиваю галстук, демонстративно расстегиваю рубашку – мне нечего скрывать. Не от тебя, Гера.
Он садится, приобнимая колени. На правом запястье крученый веревочный браслет. Грязноватый.
- Захаров – это реально твоя работа?
Я хмыкаю.
- Ага.
- И вся Стерлевская банда?
- И это.
- А Динмухаметов?
Я выдергиваю рубашку из брюк.
- Нет, это молодежь наступает на пятки.
Он смотрит снизу вверх, дергает браслет.
- Ты ни разу не промахнулся – это правда?
- Так, кажется, говорят.
- Я думал, пиздят… - Он следит за мной взглядом, пока я снимаю ботинки, брюки, носки, отставляю обувь под кресло. - Как ты… это делаешь? Всегда попадаешь?
Он, похоже, глотает «в твоем возрасте», но я это пропускаю.
- Бабка заговорила.
- Вот это точно пиздеж.
Он немного диковатый. И глаза – красивые, наглые, злые. Зелено-голубые, цвета советской тетрадки.
Я сажусь рядом.
- Я бы хотел погладить твои колени, Гера.
Взгляд немного растерянный – застал врасплох? Прости, но мы ведь здесь не для разговоров. Он торопливо убирает руку. Задерживает дыхание, когда я первый раз касаюсь кожи.
- Моя бабка, Гера, - я грею ему икры и ступни, глажу длинные кривоватые пальцы, - однажды сделала так, что сосед, который бросал окурки ей на балкон, выхаркал собственные легкие. Вот так, за три дня из здорового человека стал инвалидом.
- Совпадение.
Я мягко давлю на колени, он вытягивает ноги на кровати, откидывается на локти. Теперь можно вверх по бедру, туда, где под белизной проступают вены и кожа от легчайшего прикосновения становится гусиной.
- Возможно.
Я касаюсь той самой протертости, осторожно глажу пальцем, будто это может быть эрогенной зоной. Ожог розовый, глянцевый, гладкий, как это было у… Нет, все еще рано. Рано-рано-рано. Рана-рана-рана.
Я сосредотачиваюсь на том, как ладонь скользит вверх по ребрам, собирая мурашки. Выше, до самой шеи.
– Бабка могла разное. И доброе, и злое. Всякое. – Вниз по животу к самому теплому. Втиснуться между ног, там обжигает. - Перед смертью она позвала меня. Посмотрела своими прозрачными глазами и сказала, что отдаст заговор на удачу. Что смогу пользоваться, сколько захочу, а потом могу передать тому, кого сочту достойным.
- И ты что? Нашел? Достойного?
Я улыбаюсь наивной надежде в его взгляде.
- Может, это ты? Хочешь знать, что она сказала?
Он приподнимается на локте, смотрит, выжидает.
Я заговорщицки склоняюсь к его лицу:
- «Ахалай-махалай… ляськи-масяськи…»
У него молодой хрипловатый смех. Мне нравится, как он смеется. А еще мне нравится, как у него на меня стоит.
- Повернешься?
Он сводит лопатки, когда я пробегаю по ним пальцами. Напрягает под ладонями худые плоские ягодицы. Я развожу их, целую, чтобы расслабить. Прохожусь языком, чтобы показать, что мне можно доверять. Ласкаю снова и снова. Он молчит, не издает ни звука, но то, как начинает выгибаться, подставляясь, как поднимает бедра, чтобы было поглубже, подсказывает, что я все делаю верно. Вот он дергается мне навстречу, всхрапывает и разводит ноги.
Густая прохладная смазка пахнет сиропом от кашля.
Я надрываю пакетик резинки, показываю ему, чтобы убедился.
- Давай уже.
Я не тороплюсь. Есть еще кое-что.
- Гера, я, скорее всего, назову чужое имя.
Он несколько раз громко выдыхает.
- Да посрать…
Вот теперь можно.
Влажный шорох резинки, податливость и теснота, жар крепкого гибкого тела. Колючий затылок под губами, острый кадык под ладонью, выгнувшаяся поясница. Погрузиться до предела, чтобы кожей к коже, и скользнуть назад, почти вынимаясь. Еще и еще раз. Теперь можно быстрее.
Я теряюсь молниеносно. Забываю кто я, где. Двигаюсь, что-то говорю, но не отдаю отчета, знаю только, что должен вот так остервенело вбиваться, пока не дойду до звездной точки, а потом еще немного. Он такой послушный, такой мягкий, что растянуть не получается, я кончаю быстро и бурно. А там обхватываю его тяжелый налитой член губами и ласкаю, помогая языком и руками. Он тянет за волосы, насаживает на себя, хрипло стонет. Он страстный и жадный, берет то, что хочет, и я отдаю без условий.
Наконец мы оба валимся на кровать. Сердце грохочет, голова плывет, и я позволяю открыться ране, для которой теперь самое время. Вот в моих мыслях мы снова девятнадцатилетние, втроем бежим по клеверному полю – я, Влад и его огромная немецкая овчарка. Мы опаздываем на электричку, в нос бьется запах шпал и железной дороги, в копчик стучится пузатый рюкзак. А дальше – тамбур и пепел, липкий лак деревянных скамеек, мутные стекла и «Билетики, молодые люди, предъявляем». Потом жар прогретого деревянного дома, доски через хлюпкие лужи в огороде, сайра в консервах, влажная шерсть, а еще позже - скрипучая раскладушка и горячий шепот Влада: «Ты только послушай, Дюх: Вот, усадив его вблизи оконной рамы, / Где в синем воздухе купаются цветы, / Они бестрепетно в его колтун упрямый / Вонзают дивные и страшные персты… Это же чистый поэтический секс, ты чувствуешь, Дюха? Понимаешь?..» Откуда мне понять? Я понимаю только его улыбку, его короткие кудри, его блестящие глаза и мои мучения в комариной темноте: почему он, тонкая романтичная душа, натуральнее хлопка, а я, пацан с чувствительностью туалетного ершика, не могу насмотреться на него с пятого класса?
Под веками мелькают жаркие дни в коротких шортах и трепетные ночи совсем без них, упрямо отгоняя воспоминание вечера, когда задержанное дыхание и слишком долгий взгляд выдают меня с потрохами, и в эти-то потроха мне и прилетает. С тех пор я смотрю на моего поэта столько, сколько разрешено, касаюсь только пожимая руку, а раз в месяц снимаю шлюху с лирикой во взгляде.
Такого, как Гера.
Я поворачиваюсь, в который раз вдыхаю его молодой крепкий запах.
Он открывает глаза, подставляет ладонь под ухо.
- Ну и кто этот Влад, которым я сегодня был?
Не то чтобы я часто откровенничал, но он и правда располагает.
- Тот, кто указывает мне, в кого стрелять без промаха, - как мой поэт с годами заделался олигархом со стальными яйцами, я до сих пор не знаю. Знаю только, что вся моя жизнь, вся удача, весь бабкин заговор – все это служит ему, все лишь бы он был в безопасности и хоть иногда вспоминал любимые строчки.
Гера едва не подпрыгивает:
- Погоди, Влад… Влад Левин? Влад Левин, глава «Алмазов»? По кличке Поэт?
Я же говорю. Умный, умный Гера.
- Ты неплохо осведомлен.
Он хмыкает:
- Когда выживаешь на улицах… - Он теребит свой крученый браслет, облизывает губы. - То есть это правда, ты и Поэт…
- Между нами никогда ничего не было.
- Но ты его… ты в него…
- Между нами никогда ничего не было, говорю же.
- Ну и зря, - он ложится, укладывает одну мускулистую ногу на другую. – Поэт дурак. Если бы он знал, как ты сосешь…
Смех помимо воли вырывается из горла. Я благодарно хлопаю его по звонкой ягодице.
- Давай сменим тему.
- Окей, - он кивает, поднимается. – Погоди тогда, я сейчас…
Он отходит, а я укладываюсь головой в подушку, закрываю глаза. Хочу урвать еще немного воспоминаний… «Вот, усадив его вблизи оконной рамы…»
И в этот момент мне в затылок прилетает.
***
- Ну чего ты, поделись, гнида. Жалко тебе? Сказали же, что можешь передать тому, кто достоин.
Смешно, первая мысль, когда я пришел в себя, привязанный к стулу, была: «Лишь бы отпустили мальчишку, с остальным я справлюсь». Но теперь-то я знаю, что никого, кроме нас двоих, в комнате нет.
- Ты, что ли, достоин?
- А что? Почему нет? Динмухаметов – моя работа.
Я сплевываю.
- Халтура…
Он бьет снова и снова. В зелено-голубых глазах много злости.
Я не уклоняюсь, только стискиваю кулаки связанных сзади рук. Заслужил же, ну? Сам тупица. Мог бы догадаться, что рано или поздно о грешке узнают. Поймут, что вернее всего подослать шлюху – и мой типаж тоже не будет ни для кого секретом.
Но теперь-то что. Теперь надо выбираться. Разве что сначала нужно понять, кто в этом замешан. Предупредить Влада. Ведь если кто-то из его врагов добрался до меня, значит, дело совсем плохо. Значит, когда выберусь, пора и в самом деле начать искать того, кому доверять бабкину тайну, кому передам защиту Влада…
- Чего молчишь? – в ухе звенит от нового удара. - Поэт прав, у тебя мозг усох, на пенсию пора.
Я так занят мыслями о спасении, что не сразу понимаю, что услышал.
- А?
- Два, блядь. – От злости он топает ногой, как ребенок. - Сколько можно! Ты всех достал, Поэт говорит, рожа твоя собачья ему остоебенила. Вот просто скажи хренов заговор, будь человеком. Ты же все равно скоро сдохнешь, а так - я, наконец, вылезу из грязи, Поэт обещал работу и тачку, а тебя отпустят коротать старость где-нибудь в теплом месте. Ну?
Сердце ухает в желудок, в глазах вспыхивают пятна. Собачья рожа? Остоебенила? Нет, нет, Влад не может… Я же всю жизнь… Все, что я делал… Это невозможно. Но ведь пацан знал, чем меня взять, где стоять и что делать. Был предупрежден про заговор, про бабку. Ему сказал тот, кто все-все про меня знает…
- Ну не будь жмотом, скажи!
В голове так жжется от мыслей, что я не сразу соображаю послать его нахуй.
Он пинает меня в досаде.
- Я тогда… я тогда знаешь что? Я тогда нахрен все тут разнесу! Я… – Он мечется взглядом по комнате, наконец замирает. Он понял, как достать меня. - Я тогда вот что.
Он дергает из кармана моего пальто перчатки, кидает на железное блюдо и достает зажигалку.
- Ну? Я сейчас спалю твой подарок.
Я молчу.
- Ты услышал? Я спалю их, если не скажешь. Ну?
Я молчу, а он никак не может решиться.
- Раз, два…
- Погоди-погоди! - говорю через выдохи, хрипло. - Я скажу… я скажу бабкины слова перед смертью.
Он поднимает губу, мол, давно пора, и склоняется надо мной.
- Ну?
- Записывай, - я шепчу. – Она сказала: «Андрей… надевай… шапку…»
Он ревет: «Сука!» и вжикает колесиком зажигалки.
Кожзаменитель горит бодро, испуская гнилой запах и скукоживаясь в липкую черную дырку. Я смотрю, не отрываясь. Кажется, там, на блюде, сейчас горят мои собственные руки.
Я жду, чтобы вытек последний палец, а потом наконец улыбаюсь.
- Перчатки, - говорю я с удовольствием.
Он недоверчиво смотрит.
- Чего?
- Нет никаких слов. Бабка оставила заговор в перчатках. Это её подарок.
- Брешешь.
- Пока носил их, мне всегда везло.
Он смотрит на слипшиеся черные остатки, потом на меня.
- Значит, зря снял.
В висок мне утыкается глушитель. А я вдруг вдыхаю запах прогретого деревянного дома и собачьей шерсти, чувствую под собой скрипучую раскладушку и слышу горячий вдохновленный шепот:
- Ты только послушай, Дюх: «Вот, усадив его вблизи оконной рамы, / Где в синем воздухе купаются цветы, / Они бестрепетно в его колтун упрямый / Вонзают дивные и страшные персты…» Это же чистый поэтический секс, ты чувствуешь, Дюха? Понимаешь?..
Я, кажется, впервые чувствую. И впервые понимаю.